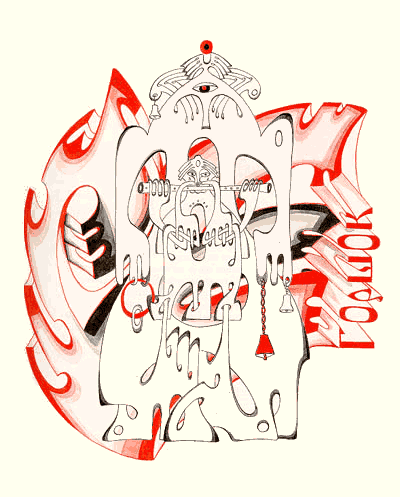

 А послухай-ко, што в нашей стороны деетца. Этаких леных-то поискать да и поискать... Так и норовят дило-то на чужи плечи столконуть — самому бы только не дилать. Вот этаки-то муж с женой и жили у нас в деревне. Уж таки лены, таки лены были изо всей округи. И дверь-то в избу николи на крюк не закладывали... «Да притка ево возьми!.. Утром-то вставай, да руку и протягивай, да упять ево скида-вай... Да и так живе!»
А послухай-ко, што в нашей стороны деетца. Этаких леных-то поискать да и поискать... Так и норовят дило-то на чужи плечи столконуть — самому бы только не дилать. Вот этаки-то муж с женой и жили у нас в деревне. Уж таки лены, таки лены были изо всей округи. И дверь-то в избу николи на крюк не закладывали... «Да притка ево возьми!.. Утром-то вставай, да руку и протягивай, да упять ево скида-вай... Да и так живе!»
Вот этака-то баба и свари каши... А уж и каша задалась! Румяна да рассыпчата, крупина от крупины так и отвалилася. Выняла этта баба кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила, съили кашу облизаючись. Глядь, а в горшке-то этак сбочку да на донышке и приварись каша-то, мыть горшок-то надобно. Вот баба и говорит мужику:
— Ну, мужик, я свое дило сдилала — кашу сварила, а горшок теби мыть!
— Да полно-ко! Мужиково ли дило горшки-то мыть?! и сама вымоешь!
—А и не подумаю!
—А и я не стану...
— А не станешь — дак и так стоит!..— Сказала баба, сов горшок-то на шесток, а сама на лавку... Стоит горшок не мытой...
— Баба, а баба! а вить горшок-то не мытой стоит...
— А чья череда — тот и мой, а я не стану...
Достоял горшок до ночи... Ладит мужик спать ложитца, лезет на печь-то, а горшок все тутотка.
— Баба, а баба! надобно горшок-то вымыть!
Взвилась баба вихорем:
— Сказано — твое дило — ты и мой!..
— Ну, вот што, баба! уговор дороже денег — кто завтра первой встанет, да перва слово скажет — тому и горшок мыть!..
— Ладно, лезь на печь-ту, там видно буде!..
Улеглися. Мужик-то на печи, баба на лавки. Прошла темна ноченька... Утром-то никто и не встае!.. Ни тот, ни друга и не шелохнутца — не хотя горшка-то мыть. Бабы-то надоть коровушку поить, доить да в стадо гнать, а ена с лавки-то и не крятатца... Этта соседки коровушек-то прогнали...
— Господи помилуй! што это Маланьи-то не видать... Уж все ли по здорову?!
— Да, быват, позапозднилась... обратной пойдем — не встретим ли...
И обратно идут — нет Маланьи...
— Да нет уж!.. видно, што приключилося!
Ближняя-то суседка и сунься в избу... Хвать! и дверь не заложена... Не ладно штой-то!.. Вошла, перехрестилась.
— Маланья, матушка!..
Ан, Баба-то лежит на лавке... во все глаза глядит, сама не шелохнетца...
— Пошто коровушку-то не прогоняла? Ай понездоровилось?
Молчит баба...
— Да штой-то с тобой приключивши-то? Почто молчишь-то?!
Молчит баба, што зарезана...
— Господи помилуй?! Да где у тя мужик-то?! Василий... а Василий!..
Глянула на печь-то — а Василий тамотко лежит... глазы открыты, а не ворохнетца...
— Што у тя с женкой-то?! Ай попритчилось?..
Молчит мужик, што воды в рот набрал... А эфто, вишь ты, никому горшка мыть не охота, не хотя перво словечушко молвить...
— Оборони, Господь, не напущено ли!.. Пойтить сказать бабам-то...
Побежала по деревни-то.
— Ой, бабоньки! не ладно вить у Маланьи-то с Василием... Пойди-тко, погляди — лежат пластом одна на лавки, другой на печи... Глазыньками глядят, а словечушка не молвят... Уж не порча ли напущена?!
Прибежали бабы, почитай все собралися. Лоскочут коло Маланьи да Василия.
— Матушки! да што это с вам подеялось-то?.. Маланьюшка!.. Васильюшко!.. Васильюшко... Маланьюшка... Да пошто молчите-то?! Што приключивши-то?!
Молчат... молчат обое, што убитые.
— Да беги-тко, бабы, за попом! Отчитывать надобно... Дило-то оно совсим неладно выходит.
Сбигали. Пришел батюшко-то.
— Што тако, православные?..
— Да, вот, батюшко, штой-то попритчивши. Лежат обое — не шелохнутца... Глазыньки открыты, а словечушка не молвят... Уж не попорчено ли? Не отчитывать ли?
Батюшко бороду расправил, да к печки:
— Василий! раб Божий! Што приключивши-то?..
Молчит мужик... Поп-то к лавки.
— Раба Божия! Што с мужем-то?..
Молчит баба...
— Да уж не отходну ли читать? Не за гробом ли спосылать?
Молчат, што убитые...
Бабы-то этта полоскотали, полоскотали, да и вон из избы-то. Дило-то оно не стоит... кому печка топить, кому ребят кормить... у ко-во цыплятка, у ково поросятка... А батюшко-то:
— Не-е, православные, уж этак-то оставить их боязно... Уж посидите кто-нибудь.
Той нековда, другой нековда, энтой времячка нет...
— Да вот,— говорят,— бабка-то Степа-нида пущай и посидит... Не ребята и плачут... Одная и живе...
А эта-ка бабка Степанида рученкой подперлась, поклонилась.
— Да не-е, уж, батюшко... нонече даром-то никто работать не стане. А положь жалованье, так посижу...
— Да како же те жалованье-то положить? — спрашивает батюшка. Да повел этак глазам-то по избе... А у двери-то и висит на стенки рва-а-ная Маланьина кацавейка. Вата клоками болтаетца.
— Да вот,— говорит батюшко,— возьми кацавейку- то. Плоха, плоха — а все годитца хоть ноги прикрыть...
Только этта, жаланныи вы мои, батюшко-то проговорил, а баба-то, што ошпарена, скок с лавки-то. Середь избы встала, руки в боки.
— Да эфто што же такое,— говорит,— мое-то добро... да не помираю ешшо. Сама поношу, да из теплыих-то рученок кому хочу, тому и отдам.
Ошалели все... А мужик-то этак тихонько ноги-то с печи спустил, склонился, да и говорит:
— Ну вот, баба, ты перво слово молвила, теби-ка и горшок мыть.
Так батюшко-то плюнул, да и вон пошел...
Так вот, матушки вы мои, какой народ на билом свиту бывает...
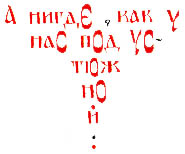
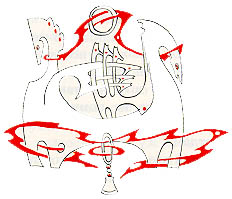
 Всполошилась суседка.
Всполошилась суседка.